
После операции на позвоночнике люди встают на следующий день. Несколько лет назад это было невозможно, а сейчас нейрохирург Алексей Кащеев регулярно проводит такие операции. Как изменилась медицина и почему известный доктор не уезжает из России (несмотря на предложения) — он рассказал «Правмиру».
«Ты можешь помочь прямо здесь и сейчас»
— У меня есть знакомый проктолог, который говорит, что нейрохирургия — это скучно и долго. То ли дело полостные операции! За что вы любите нейрохирургию?
— Своя специальность всегда кажется самой интересной. Лично я с восьмого класса хотел пойти в спинальную хирургию. И сейчас главный плюс для меня — как раз гигантское разнообразие. От малоинвазивных эндоскопических операций под местной анестезией, установки нейростимуляторов или блокад, до больших вмешательств, которые могут длиться сутками. Диапазон огромный: ты можешь делать очень разные вещи очень разными методами — через шею, через живот, через спину. Ты имеешь дело с пациентами, которые дожили до преклонного возраста, когда не миновать проблем со спиной; и с молодыми пациентами, у которых есть патологии, аномалии развития. Огромный спектр!
И еще мне в спинальной хирургии нравится то, что ты можешь помочь человеку прямо здесь и сейчас.
— Буквально починили человека — и он встал?
— Я сейчас пойду на четвертую операцию за сегодняшний день. Все три пациента, которых я прооперировал, уже встали. Например, у человека острая грыжа диска, в результате болит нога, он плачет и не может добраться до туалета. Ты ему делаешь операцию — и нога работает. Это приятно.
Но бывают ситуации, когда ты можешь навредить неправильным действием, да и сам факт операции содержит в себе риски. Человек может перестать двигаться и стать говорящей головой. При некоторых опухолях спинного мозга, которые мы удаляем, есть риск существенного ухудшения симптоматики, требующей многомесячной реабилитации.
Например, при некоторых интрамедуллярных опухолях шейного отдела такой риск около 30%, это много. Каждый третий, придя на своих ногах, может на время оказаться без них. Но без этой хирургии риск составляет 100%.
— Тут выбор очевиден.
— И все равно очень сложно принять решение, особенно если это пациенты исходно бессимптомные или малосимптомные. В этом случае важно дать человеку процентное понимание твоего опыта, мирового опыта, чтобы он понимал, чем он рискует и чем ты рискуешь. И чтобы он понял, что вы вместе принимаете осознанное и в чем-то опасное решение.
Спасти от боли, когда даже опиаты не работают
— У вас супертехнологичная специальность, появились ли в последнее время новые методики, подходы, оборудование, которые вас поразили?
— Спинальная хирургия обновляется каждые четыре-пять лет. Это не так уж часто, потому что некоторые аспекты онкологии, например, лечение меланомы, обновляются чуть ли не раз в год. Но главное, что в нейрохирургии постоянно совершенствуется ряд треков, чтобы сделать то же самое или больше, но малоинвазивно.
Это общий тренд в хирургии — от жестокости «колбасных» ампутаций, как в эпоху Возрождения, в сторону снижения насилия и минимального причинения боли. Когда я был ординатором, восстановление после разреза требовало двух-трех недель в лежачем положении.
А сейчас делаешь пяти-шестимиллиметровый прокол — и на следующий день человек свободен. От этого захватывает дух.
А второе, что поражает, — это, наоборот, большие операции, которых не было раньше. Это, в частности, связано с тем, что люди стали доживать до того возраста, когда развиваются патологии позвоночника, с которыми мы раньше не имели дела. Все эти возрастные деформации, сложные многоуровневые стенозы, когда нужно подбирать индивидуализированный подход к каждому пациенту.
Ну и в-третьих, появляются принципиально новые технологии, вроде нейростимуляции. Это метод, связанный с установкой систем электростимуляторов на различные отделы нервной системы.
Люди, которые сделали операции сами себе:





— Это правда, что с ее помощью лечат болезнь Паркинсона и синдром Туретта?
— Да, в глубинные ядра головного мозга устанавливается электрод, который управляется через программу и берет на себя функции тех центров, которые утрачены в результате болезни или изначально ведут себя некорректно, как это бывает при синдроме Жиля де ла Туретта.
У меня есть коллега, Владимир Михайлович Тюрников, который делает такие операции. У него было несколько пациентов с синдромом Туретта. Это страшная болезнь, потому что человек страдает непроизвольным тиком, но при этом полностью психически сохранен.
Ну и вообще сейчас активно изучаются возможности DBS — deep brain stimulation — при лечении депрессии, обсессивно-компульсивных расстройств. Как ни странно, с точки зрения физиологии ОКР отчасти похоже на тики, на болезни движения: это тоже повторяющиеся монотонные действия, хоть и имеющие другое происхождение.
С помощью нейростимуляции, как полагают, можно будет корректировать зависимости — алкоголизм, наркоманию, игроманию.
Появились обнадеживающие данные, что даже при болезни Альцгеймера эта технология может замедлять темп деменции. Если учесть, что в мире около 40 миллионов людей с болезнью Альцгеймера, а ВОЗ прогнозирует, что к 2051 году их будет еще в четыре раза больше, это прямо очень актуально.
— Но сами вы с этим не работаете?
— SCS (спинальная стимуляция) является одной из стратегий развития и для спинальной хирургии тоже. Существуют виды боли, которые невозможно купировать фармакологически. Это боль после неудачной операции на позвоночнике, разные нейропатии, критическая ишемия нижней конечности, фантомная боль и так далее.
Люди с осложненной травмой спинного мозга могут постоянно испытывать ощущение, что нижняя неподвижная часть тела у них погружена в кипящую воду. Это ужасное страдание. Но такая вот попытка обмана нервной системы с помощью нейростимуляции — отличный способ лечения людей, которым раньше нельзя было помочь. Задача — поставить электрод на тот отдел спинного мозга, который эту боль контролирует, и создать электрическое поле, вызывающее парестезию — мурашки в той зоне, которая воспринимается как источник боли.
— Как раньше с таким справлялись?
— С помощью наркотической анальгезии. С этим в России много проблем, хотя сейчас они частично решаются. Другое дело, что многие виды нейропатической боли отличаются от онкологических тем, что опиаты почти не работают.
У нас все время есть диалог вокруг онкологической боли — это правильно, это дало свои плоды, потому что то, что было недоступно еще пять лет назад, стало доступно при паллиативной помощи.
А вот вокруг неонкологической боли этого дискурса гораздо меньше. Хотя существует категория пациентов, которые не имеют онкологии, но все равно ужасно страдают. И не умирают при этом.
«Я многого еще не умею»
Алексей Кащеев ушел, как и обещал, чтобы проконтролировать ход операции, и вернулся через 15 минут.
— У вас операция, случилось что-то нештатное?
— Нет-нет, это несложная операция — секвестр с грыжей диска. Мы стараемся, по возможности, такие небольшие операции делать по четвергам, на сегодня это уже пятая. К сожалению, иногда затягивается, но вообще я стараюсь, чтобы в половине пятого мы уходили домой.
12 фактов о раке:


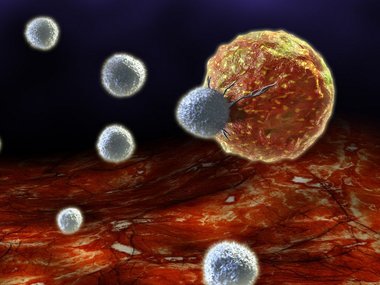


— А во сколько приходите?
— Обычно в 6:50. В 7:00 я разбираю письма, в 7:15 принимаю первых пациентов. В 8:15 я принимаю пятиминутку в качестве заведующего отделением — что у кого произошло за ночь. А в 8:30 я прихожу на общеклиническую, где все отделения. До этого обход в реанимации, если кто-то из моих пациентов там «зависает».
Ну и в 8:30 первый пациент подается на стол. Мы работаем командой, один я ничего не могу. Нас четверо — я, два нейрохирурга и невролог-алголог, который занимается консервативной терапией боли, блокадами, нейростимуляцией. В идеале — как это было в Германии, когда я учился — операция должна всегда начинаться или заканчиваться двумя людьми. Это делается из соображений безопасности, как при управлении самолетом. Летчик же никогда не пилотирует один. А если что-то случится?
— В какой момент вы из второго пилота стали первым? Когда впервые провели самостоятельно операцию?
— Обычно, когда ты приходишь в нейрохирургию, начинаешь на позиции второго ассистента. Это значит, что ты помогаешь второму хирургу сделать доступ для первого. Доступ — это открыть ту структуру, которая нужна. Он может длиться три часа, это подчас сложнее, чем сама операция.
Потом, когда начинается второй этап, работают уже оба хирурга. Большая часть микрохирургических операций у нас проводится за окулярным микроскопом. Обычно в этот момент второй ассистент смотрит в монитор, и так может продолжаться несколько часов.
Проходят годы, и ты начинаешь сам работать как второй хирург и делать доступ первому хирургу. Еще годы — ты переходишь на позицию первого хирурга, а твой более опытный коллега, с которым ты поменялся местами, смотрит в монитор, чтобы в случае чего вмешаться.
Потом — еще годы, и ты осваиваешь все больше, больше операций как первый хирург, начиная с малой хирургии типа грыж и коротких стенозов, дальше вентральная фиксация шеи, дальше опухоли, дальше деформации и более сложные опухоли. Нет этому конца.
— Вы чего-то не умеете?
— Я многого еще не умею, мне 35 лет. Если какие-то ортопедические операции требуют участия более опытного хирурга, я приглашаю своих друзей-ортопедов и учусь у них. Так же и меня зовут в другие клиники помочь, если нужен нейрохирург.
Классно и страшно — это одно и то же
— Где граница между ортопедией и нейрохирургией?
— Есть общее понятие спинальной хирургии. Либо ты изначально спинальный хирург, первично учился работать на нервной системе и еще умел голову, но потом оставил ее, как хорошее воспоминание, и перешел в спину.
Либо ты ортопед-травматолог, который базово умеет еще руки, ноги, суставы, переломы, а потом оставляет это и тоже переходит в спину. Где граница? Никто не знает. Но понятно, что это должно постепенно стать интегративной специальностью.
Например, у человека сколиоз, а еще болит нога из-за грыжи диска. Вопрос: нужно ли ему сделать эндоскопическую операцию, убрать грыжу диска и тем самым освободить корешок, чтобы у него не болела нога, или эту операцию нужно дополнить, зафиксировав и исправив сколиоз? Ответ и не в пользу первого, и не в пользу второго, потому что эта грыжа диска может стать следствием «разваливания» его сколиоза, нарастания его градуса. А если этот сколиоз фиксированный, то не нужно никаких особых инструментальных действий. С такими патологиями к пациентам нужны индивидуальные подходы, а выработать их можно, только зная и нейрохирургию, и ортопедию.
— Есть ли какие-то не рутинные операции, которые вам вспоминаются? Было вам по-настоящему страшно?
— Как правило, классно и страшно — это одно и то же, потому что обычно вспоминаются опасные операции. В первую очередь все, что касается спинальной онкологии, где шаг вправо, шаг влево — это инвалидизация, в случае шеи иногда и смерть.
10 удивительных нейрофизиологических заболеваний:





Позавчера мы делали операцию пациентке с огромной менингиомой на уровне третьего грудного сегмента. Опухоль внутри канала была настолько велика, что мозг не визуализировался на МРТ. То есть вообще непонятно, за счет чего она худо-бедно ходила. Менингиома — это доброкачественная опухоль, но они имеют интересную особенность: иногда внутри нее образуется кость. Это всегда сильное ощущение, когда ты оперируешь уже немолодого человека, открываешь твердую мозговую оболочку, а там вывернутая и натянутая нитка, которая осталась от спинного мозга. Твоя задача — с одной стороны, ее убрать, минимально касаясь мозга, потому что любое избыточное касание может вызвать необратимую ишемию, то есть спинальный инсульт, и человек лишается функции ног.
И вот уже зашили твердую мозговую оболочку, начинают зашивать мышцы, кожу, твой этап закончен, ты покидаешь операционную, но на сердце неспокойно.
На следующий день приходишь к пациенту в реанимацию, откидываешь одеяло и говоришь: «Подвигайте ногами». В эту секунду все решается.
— Если не двигает, значит, хирург налажал?
— Не то что налажал, а просто произошло нарушение. В некоторых случаях для этого не обязательно делать что-то агрессивное, просто попал или не попал. Пациент предупрежден об этом. Естественно, для того чтобы этого не случилось, делается нейромониторинг, когда нейрофизиолог подает сигналы через кору, через электроды к эффекторам — к рукам, ногам. Мы все время смотрим, не рушим мы что-то. Но это тоже не дает стопроцентной гарантии.
Что касается простых и малых операций — они по-прежнему мне приносят большое удовольствие, потому что это приятно, когда ты малой кровью, быстро вернул человека к активной жизни. Один из моих бывших пациентов — профессиональный спортсмен, такой огромный, что в эту дверь не пройдет. Действующий чемпион Европы по пауэрлифтингу.
Недавно у нас была совместная операция с нашими онкологами. Гигантская лимфосаркома, рецидив злокачественной опухоли. Она занимала большую часть брюшной полости, все органы — на противоположную сторону. Часть ее прорастала в поясничное нервное сплетение на внутренней поверхности позвоночника. Опухоль килограммов семь. Задача была, с одной стороны, радикально ее убрать, потому что был риск повторного роста. С другой стороны, минимизировать вмешательство. Этому пациенту полностью удалось сохранить ногу.
— Вы запоминаете всех своих пациентов или только вот таких, особенных?
— Приятно наблюдать за судьбой пациентов, которые потом пишут, звонят. Я помню все истории — и хорошие истории, и грустные. Около года назад мы оперировали 26-летнюю девушку по поводу спинальной меланомы, и сейчас мы с ней переписываемся. Она умирает в хосписе. Ее не станет раньше, чем выйдет ваш материал.
И все же операция подарила ей еще год жизни, она работала, радовалась, встречалась с друзьями, ходила в бары.
Бесполезно проливать слезы по каждому такому случаю. Если ты дал еще год, значит, в этом была твоя работа.
Есть некий баланс плохих и хороших историй. В детской нейрохирургии побольше груза в историях, потому что много патологий, с которыми имеют дело детские нейрохирурги, неизлечимы.
Дурной тон — думать, что женщина-хирург слабее, чем мужчина
— Хирургия — мужская профессия?
— Я бы не сказал. Из нас четверых двое — девушки: невролог и нейрохирург.
Если что-то и мешает женщинам в хирургии, то ровно то же, что мешает им в других областях: дискриминация, харассмент. Это, кстати, чрезвычайно распространенное явление в медицине, хотя с поколениями эта традиция, к счастью, уходит.
Плюс у женщин есть множество обязанностей, связанных с семьей, с беременностью, родами, уходом за детьми, где никто их подменить не может. А ведь хирургия — это постоянный тренинг. Да, есть биатлонистки и теннисистки, которые, родив, возвращаются в большой спорт, но гораздо больше тех, кто не вернулся. Даже полгода-год — очень серьезный перерыв.
Хотя в Боткинской больнице есть отличный нейроспинальный хирург Вера Владимировна Сидоренко, и у нее трое детей. Я никогда у нее не спрашивал, чего стоило каждый раз это возвращение. Вот только в этом для женщин сложность, а остальные помехи — глупости.
— А физическая сила? Поднять, перевернуть.
— Они тренируются, ходят в зал, качаются, чтобы выполнять свою работу. В Германии половина отделения, где я работал, были женщины. Они выполняли ничуть не менее сложные операции, чем мужчины. Больше того, я быстро понял, что там считалось дурным тоном помогать в операционной, делать какие-то как бы чисто мужские вещи. Если надо повернуть пациента весом 110 килограмм, то это все равно будут делать вместе, все бригадой. Если она состоит из женщин — ну, значит, будут переворачивать женщины.
16 женщин-врачей из кино:





Ответственность у врачей должна быть не уголовная, а финансовая
— Вы в Германии долго были? Почему не остались?
— Я учился в Мюнхене в 2016 году у профессора Майера, это основоположник всей европейской спинальной микрохирургии. Сам Майер имеет образование нейрохирурга и ортопеда. Его отделение — одно из самых известных в Европе, я много месяцев ассистировал там на операциях.
Мне предлагали там остаться — в Германии есть специальные программы для врачей. Немецкого я не знаю, но английский и французский у меня свободные, при необходимости выучил бы и немецкий.
Главная причина [почему я остаюсь в России], наверное, в том, что я очень сентиментальный человек и привязываюсь к месту. Я много путешествую, но при этом всю жизнь прожил в одной квартире. Сейчас я ее меняю на новую, но это в 250 метрах от старой. Привыкаю к вещам, к людям, с трудом меняю места.
Хотел бы, чтобы мой ребенок учился в той же школе, в которой учился я и моя мама.
Единственная причина, по которой стоило бы, возможно, перебираться в другую страну, — это стабильность и безопасность.
В России для мыслящего человека просто всё шокирующе меняется с каждой неделей.
— Уголовные дела против врачей?
— И не только. Но что касается врачей, то их юридическая ответственность — это большой вопрос, который полностью не решен ни в одной стране. В России сажают врачей, но при этом и врачи, и пациенты бесправны перед регулятором.
А регуляция происходит именно через жестокость. Те, кто принимают решения, не слышат мнения вменяемых представителей в том числе юридического мира, которые говорят: не должно быть уголовной ответственности за непредумышленное причинение вреда, и даже смерти, человеку в ходе оказания ему медицинской помощи.
Ответственность должна быть и у врачей, и, главное, у клиник, но не уголовная, а финансовая. Более того, медицинское сообщество само заинтересовано в том, чтобы исключить из своего круга недобросовестных представителей профессии.
Но даже если самого моего непрофессионального коллегу, который плохо оперирует, берет взятки и так далее, будут сажать, я первый буду его защищать.
А вот если у него будут отзывать лицензию, заставлять пересертифицироваться по четко прописанным правилам, то я только за. Но этого не происходит.
В отпуск всем отделением
— Как вы справляетесь с выгоранием?
— Я сейчас как врач и руководитель отлично понимаю, что это такое. На уровне государственной системы эта проблема не решается никак. В крупных зарубежных клиниках обычно есть штатные психологи, которые внимательно наблюдают за состоянием врачей. В некоторых случаях человеку нужно давать возможность отдохнуть, пройти психотерапию, потому что это может сильно отражаться на его работе.
У нас это все спущено на самом деле на руководителя отделения. Я, например, должен быть психологом своим сестрам и санитаркам, понимать, что у них происходит. Но это не моя работа, по идее это должен делать штатный сотрудник.
— Бывает, что самому неохота утром на работу?
— Чтобы прямо неохота — такого нет. Но не так давно, лет пять назад, я стал заранее видеть нарастание напряженности в своей работе, накопление психофизиологической усталости. Она идет циклами, и это просто требует отдыха. Откуда, вы думаете, берутся эти страшные истории про перепутанные при ампутации ноги, ошибки анестезиологов, когда они вводят препарат, на который у человека обозначена аллергия? Так происходит повсюду, где ведут много-много операций подряд.
Ты можешь выносить определенный темп работы некое время, а потом нужен отдых.
Мы все стараемся уходить в отпуск одновременно, чтобы была полная перезагрузка. Когда народу в отделении много, можно уходить по очереди. А когда мало, выбывание одного из вас может стать критичным. На время отпуска работа отделения нейрохирургии приостанавливается, а на наших койках лежат больные других профилей.
Если не врач, то кто?
— Ваши родители — тоже врачи?
— Моя мама была историком по специальности, ее нет в живых. А мой отец — физик, занимается бизнесом. Нейрохирургом я решил стать после просмотра «Скорой помощи». Кстати, я не один такой. Многие вещи в этом сериале мне близки. Мне всегда нравилась биология и все, что связано с жизнью животных. В то же время ветеринарная деятельность мне не подошла, потому что я эмоционально не выношу страданий животных. Вот вообще. Страдания людей выношу, а зверей — нет.
Бессмертие, копыта и еще 8 вещей, в которых люди уступают животным:





Я всю жизнь держу животных, и каждый раз, когда кто-то уходит из них, я клянусь, что больше никогда не заведу никого, а потом все по новой.
— Если бы вы не были врачом, то кем бы вы были?
— Я уже сейчас не только врач. У меня есть компания, которой я руковожу уже скоро 11 лет, это бюро медицинских переводов. Наверное, я мог бы быть переводчиком, заниматься чем-то окололитературным, может, даже той же журналистикой. Мне интересно делать подкасты. Еще хотелось бы сделать серию книг, которые будут рассказывать детям о разных разделах медицины. Первая будет, скорее всего, про детскую и взрослую неврологию, хотя называться будет как-то иначе. И обязательно с прикольными иллюстрациями. Такого проекта очень не хватает.
У нас есть книжки для маленьких о том, как устроено тело, — и уже для подростков, которые рассказывают о профессии. А для возраста 6-12 почти ничего нет.
Я предлагаю топовым молодым врачам, которым это могло бы быть интересно, написать для детей про определенные специальности. Причем, помимо образовательных вещей, еще нужно объяснять про ОБЖ, потому что у нас в стране очень плохо с социальной гигиеной, профилактикой заболеваний, вакцинацией.
— ОБЖ и так в школах преподают, только время у нормальных предметов отнимают.
— У нас ОБЖ рассказывает о каких-то безумных историях, типа что делать при утечке хлора в городе. А вот как остановить кровотечение, распознать признаки инсульта, что делать при попадании чужеродного тела в дыхательные пути — вот это все очень не помешало бы. Плюс совершенно необходимо информирование о деменции, о ментальных и физических особенностях, потому что Россия, как бы она ни была консервативна, идет к инклюзивности, в классах будут появляться люди с ограниченными возможностями здоровья. Другого пути нет, и это доказано западной практикой. Это просто информирование, потому что детям в этом возрасте это интересно, они уже способны это воспринять.
— Как вы всё это успеваете? По выходным работаете?
— Кроме жизнеугрожающих ситуаций, я ни при каких обстоятельствах не работаю в выходные, не беру тяжелую большую трудную работу на пятницу, чтобы уходить вовремя, чтобы быть с семьей, с друзьями. Вечера дома у меня являются зоной, свободной от разговоров с пациентами, как и у моей жены — она известный врач-невролог. Я никогда ничего не делаю по работе дома, даже не печатаю. Если мне нужно посмотреть снимки пациентов или написать лекцию, я ухожу в ближайшее кафе, потому что дом — это пространство, где нет работы.
— Зато в остальное время вам всякий может позвонить или написать в вотсап, ваш контакт полностью доступен. Немногие решаются на такое.
— Да, и, боюсь, мне скоро будет не справиться без личного секретаря. У меня бывает в день до 350 звонков. К сожалению, в какой-то степени сейчас придется от этого отказываться, не потому что я зазнался, а потому что это уже не продуктивно, невозможно.
Ой, сегодня было смешное! Мне, как и всем врачам, очень много приходит смешных сообщений. Сегодня пишут: «Здравствуйте, Алексей Алексеевич. У меня в номере вашего телефона есть ошибка. Можете прислать мне номер?» И это серьезный человек написал.
— Почему врачам приходят смешные сообщения?
— Потому что люди постоянно говорят и делают что-то забавное. Я человек довольно коммуникабельный, я люблю общаться. Но есть другой тип хирургов — они не любят разговаривать, только оперировать. Для них операция — способ помолчать и уйти от действительности, потому что во время операции у тебя мир ограничен операционной.
Но, мне кажется, это не очень здоровая штука, когда ты проживаешь свою жизнь не ради жизни, а ради каких-то других вещей, в том числе работы. Все-таки хирургия не должна замещать собой жизнь.
— А как же самоотверженность, служение людям, огонь в глазах — вот это все?
— Когда человек с утра до ночи сидит в офисе, его называют трудоголиком.
А если человек с утра до ночи занимается только операциями и лишается социальных контактов, его называют гением или еще как-нибудь. А в чем разница? Наша профессия не так сильно отличается от других профессий, как мы сами сообщаем друг другу и миру.
Что действительно для бухгалтера, то действительно и для нейрохирурга.
— Хороший врач может быть плохим человеком?
— Ну, например, в Питере недавно врач-нефролог убил жену. Он был очень хорошим врачом, я его знаю. Было бы странно, если бы все врачи были добрыми. Врачи — это очень негомогенная группа людей.
В СМИ любят такой заход: врачи считают, что… А врачи ничего не считают.
То же самое касается их личностных качеств. Существуют качества, которые делают врача врачом. Эти качества иногда сочетаются с гуманизмом человека вне профессии, а иногда не сочетаются. Одна из причин, по которым в России традиционно одно выдается за другое. То, что здесь осмысляется людьми как дар свыше: сочувствие, корректность, вежливость, умение принимать решения — в действительности называется communication, этому учат.
Знаменитости, о врачебном опыте которых вы и не подозревали:





Когда в больницу приезжают инкогнито
— Если вам самому понадобится операция, будут ли здесь люди, которые смогут вас прооперировать?
— Все врачи, которые хорошо оперируют, это мои коллеги. Иногда вас связывают дружеские отношения. Близких лучше не оперировать, потому что ты можешь начать отходить от протокола, чтобы сделать лучше. А сделать лучше — это, как правило, сделать хуже.
Сейчас у меня в отделении лежат, помимо обычных пациентов, два так называемых «випа». Это не очень молодые люди, которые на своем собственном опыте поняли, что лечение «по блату» хуже, чем лечение в общем порядке. Когда кого-то пытаются лечить лучше («Ах, это же Иван Иванович, он такой особенный человек, ему нужно особенное лечение!»), то в 100% случаев это закончится плохо. К нам даже иногда инкогнито приезжают, чтобы лечили, как всех.
А то ведь обычно звонят министру здравоохранения, и тут же вместо медицины начинается военная служба, когда один начальник приказывает другому, помельче: «Давай-ка, разберись». Тот передает приказ еще ниже.
В итоге это спускается к врачу, который все прекрасно умеет делать и делал сто раз, но на него уже навалилось столько страха и ответственности, что он не может нормально принять решение и руки дрожат.
Вот поэтому я бы поехал в какую-то страну, где меня не особо знают, чтобы не ставить других в сложное положение. Хотя врачам из своего отделения я бы полностью доверился. Кстати, в Германии я был вторым хирургом на сложной операции, где первый хирург оперировал свою жену. Я не заметил в его действиях и движениях ни малейших отличий от того, как он делал это обычно. Все закончилось успешно.
Наверное, хирургам из своего отделения я бы доверился полностью. Рано или поздно это случится. Наша патология частая, в спинальной хирургии в какой-то момент жизни нуждаются около 3,5% взрослых людей. Это более распространено, чем аппендицит.
Читайте также: Что заставляет врачей скрываться от родственников пациентов
Смотрите наши видео:
